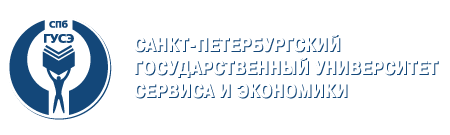Воспоминания ветерана, жителя блокадного Ленинграда, доктора физико-математических наук, профессора кафедры «Прикладная математика и эконометрика» Алексея Ивановича Шерстюка
Воспоминания ветерана, жителя блокадного Ленинграда, доктора физико-математических наук, профессора кафедры «Прикладная математика и эконометрика» Алексея Ивановича Шерстюка
Родился я 17 июня 1937 года в городе Ленинграде на ул. Радищева 19, кв. 40. Родители мои были родом с Украины.
Мой отец, Шерстюк Иван Михайлович, приехал в Ленинград в 1926 году и работал врачом-хирургом в Обуховской больнице и в Окружном военном госпитале. В 1938 году он был направлен на Дальний Восток, где был назначен заведующим хирургическим отделением военного госпиталя в зоне боевых действий против японцев в районе озера Хасан. В 1939 году отец был снова призван в армию в связи с началом войны с Финляндией и заведовал хирургическим отделением эвакогоспиталя № 1170, находящегося на территории Александро-Невской лавры, где работал и во время блокады. Моя мать, Шерстюк Ирина Яковлевна, до войны работала в Управлении по делам искусств г. Ленинграда.
Незадолго до начала войны отец был направлен для лечения в туберкулезный санаторий Халила. Находясь в санатории, отец познакомился с местными рыбаками, которые приглашали его приезжать к ним за свежей, только что выловленной рыбой. И вот, в очередной раз, в воскресенье, 22 июня 1941года, они и мамой поехали на Карельский перешеек отдохнуть и заодно привести рыбы. Мы с няней оставались дома. И в этот день из речи Молотова мы узнали о начале войны. Все отдыхающие ринулись к пригородным поездам, чтобы срочно вернуться в город. С огромным трудом удалось втиснуться в переполненный поезд; мешок с рыбой пришлось оставить. Так началась для нашей семьи Великая Отечественная война с фашистской Германией. Помню общую атмосферу тревоги и озабоченности.
Папу сразу же отозвали из отпуска, вернули в госпиталь № 1170 и назначили ведущим хирургом госпиталя. Мама тоже пошла работать в этот госпиталь; она возглавляла бухгалтерию и хозяйственную часть. Мама ходила на работу пешком, а папа оставался ночевать на рабочем месте.
Начались налеты немецкой авиации. Помню, что самолеты летели очень низко, почти над самыми крышами, так что можно было даже увидеть головы летчиков в шлемах. Одним из первых бомбардировке подверглось большое серое здание на углу Суворовского проспекта и Кавалергардской ул. (тогда она называлась ул. Красной Конницы), в котором тогда располагался госпиталь (в настоящее время там располагается Главное управление МВД по Петербургу). Здание выгорело почти дотла. Погибло очень много раненых и мед. персонала. Видимо, у немцев были неправильные сведения, что в здании располагается какое-то стратегически важное управление, так как расположенный на противоположной стороне Суворовского проспекта Окружной военный госпиталь почти не бомбили.
8 сентября (по официальным данным) бомбежке подверглись Бадаевские склады, где хранились основные городские запасы продовольствия. Возник пожар, полностью уничтоживший эти склады; в результате вскоре начался голод. Поэтому день 8 сентября 1941 года считается днем начала блокады Ленинграда. С юга город был окружен немецкими войсками, а с севера, на Карельском перешейке, стояли финские части. В целях светомаскировки было приказано в темное время тщательно завешивать окна. Оконные стекла крест- накрест заклеивались бумажными лентами, чтобы осколки треснувших от взрывной волны стекол не поранили жителей. Все квартирные телефоны были отключены. Но отцу, как ведущему хирургу большого госпиталя, оставили домашний телефон; и в течение всей блокады мы могли связываться с ним по телефону.
Электричества не было ни у кого из жителей. Для освещения квартир жители пользовались самодельными светильниками–коптилками - в маленькие стеклянные баночки с керосином опускали фитилек. Когда его зажигали, он сильно коптил, наполняя комнату дымом. Дым оседал на лицах людей, и они становились черными. Так мне и запомнились блокадники – люди с осунувшимися темными лицами, как у шахтеров.
Водопровод также не работал, так как уже с октября установились крепкие морозы, и магистральные трубы полопались. Из-под земли били фонтаны воды, которая быстро замерзала на поверхности, образуя ледяные горки. Ближайшая к нам такая горка образовалась на углу ул. Радищева и Ковенского переулка. Чтобы набрать воды, надо было забраться на вершину горки и опустить ведро на веревке в своеобразный колодец, на дне которого скапливалась вода. Для ослабленных голодом людей это была нелегкая работа. Люди скользили по ледяному склону, проливали воду, и все начиналось сначала. Обычно я ходил за водой с няней. Наполненное ведро ставили на саночки и везли к дому. Те, кто жили вблизи рек и каналов, ходили за водой к прорубям.
Хотя радиоприемники у всех изымали, но городская радиосеть работала исправно, и репродукторы в квартирах должны были постоянно оставаться включенными. Когда не было информации, то передавали стук метронома, чтобы люди знали, что радио работает. При налетах вражеской авиации диктор громким и взволнованным голосом сообщал: «Воздушная тревога, воздушная тревога !…» , а на улице надрывно завывала сирена. Этот звук почему-то особенно пугал меня, четырехлетнего мальчика, – хотелось спрятаться под кровать, заткнуть уши. По сигналу воздушной тревоги все жители должны были немедленно спуститься в бомбоубежище, которое находилось в подвальном помещении дома. Иногда приходилось оставаться в убежище по многу часов, пока не объявляли отбой. Женщины, старики, дети сидели тепло одетые, в зимних пальто и в шапках. Люди брали с собой одеяла, подушки, у некоторых были оставшиеся от пайка кусочки хлеба. Убежище было плотно набито людьми, которые располагались на простых дощатых скамейках. Насколько я помню, никогда не возникало спора из-за места. Напротив, все относились друг к другу очень благожелательно. В некоторых домах подвалы были залиты водой, и девушки-дружинницы постоянно откачивали воду двуручными насосами-помпами.
Однажды я находился в бомбоубежище с няней, а мама была на дежурстве в госпитале. Няня, будучи неграмотной, очень любила разговаривать с соседями, узнавать от них новости. Старшие дети, начиная примерно с 10 лет, во время налетов авиации находились на крыше и чердаке и помогали тушить зажигательные бомбы. Младшие дети, знавшие друг друга еще по довоенному времени, оставались в бомбоубежище и играли в разные тихие игры. Мне стало скучно и я, уже не помню как, влекомый любопытством, очутился в соседнем бомбоубежище. Увидев много незнакомых людей и не найдя няню, совсем растерялся. И тут подошла ко мне знакомая еще по довоенным играм старшая девочка, лет 12, успокоила и повела меня к няне. Выйдя на площадку первого этажа, мы наткнулись на мужчину с красной повязкой на рукаве, который начал кричать, почему она еще не на крыше, поскольку начался авианалет и она, как сознательная дружинница, должна участвовать в ликвидации зажигательных бомб. (Как я позднее узнал, в таких командах участвовали даже дети с 10 лет). Моя спутница растерялась, не желая оставить меня одного. Я стал уговаривать ее взять меня с собой. И вот мы бегом по лестнице поднялись на пятый этаж. (Наш дом в целом был пятиэтажным, и только одна часть его, выходящая окнами во двор, имела шесть этажей). По крутой железной лесенке мы вылезли на чердак. Там было уже несколько ребят, в основном подростки. На чердаке стоял грохот от падающих зажигательных бомб (зажаигалок). Они представляли собой цилиндрические предметы длиной, на сколько я могу теперь судить, сантиметров 40. Зажигалки пробивали крышу, шипели, почему-то быстро вращались и рассыпали вокруг себя искры. Меня это не пугало, т.к. они казались похожими на бенгальские огни, которые зажигали на новогодние праздники. Ребята большими железными щипцами захватывали зажигалки и тушили их, опуская в ящики или в бочки с песком. Часть ребят, поднявшись на крышу, сбрасывали зажигалки прямо вниз. Другая часть оказалась в противоположном от меня конце чердака, и на какое-то время я остался один в узком проеме между полом чердака и крышей. И тут я увидел, что совсем недалеко от меня упала зажигалка. Я начал кричать и звать ребят на помощь. Один мальчик прибежал, но ему никак не удавалось пролезть в узкое место, чтобы зацепить зажигалку. Тогда он дал мне щипцы и попросил, чтобы я это сделал. Я очень боялся, но еще больше боялся ослушаться, т.к. знал, что до войны этот парень был очень драчлив и держал в страхе весь двор. Уж не знаю как, но мне удалось поближе подтащить эту бомбу, и мы вместе закопали ее в ящик с песком. Меня все очень хвалили и даже шутя говорили, что выберут меня командиром и без меня вообще не будут ходить на дежурство. Я был очень горд и счастлив и, обнаглев, решил, что, как “командир”, должен побывать на крыше.
И вот, вместе с уже знакомой девочкой (к сожалению теперь уже забыл ее имя) вылез через слуховое окно и впервые оказался на крыше нашего дома. Передо мной открылась незабываемая картина. Внизу теснились темные громады домов, а высоко в небе плавали гигантские аэростаты заграждения. Темноту неба прорезали многочисленные лучи прожекторов. Были видны вспышки часто стрелявших зенитных орудий. Говорят, что девушки-зенитчицы стреляли отлично и часто сбивали немецкие самолеты. Один из них упал даже в Таврическом саду.
Но в этот раз нам не удалось увидеть ни одного сбитого самолета. Далеко внизу я увидел нашу улицу и наш двор. Я всегда боялся высоты, и мне стало не по себе. Наша крыша не была огорожена по краям, но ребята смело подходили к самому краю и делали свое дело. Увидев мой страх, меня отвели подальше от края, и я расположился у самого конька крыши, крепко прижавшись к кирпичной печной трубе.
Когда мы спустились вниз после отбоя, оказалось, что все меня уже ищут. Няня очень переволновалась, но я уговорил ее ничего не рассказывать маме. После этого еще несколько раз я ходил с ребятами на чердак, но уже не вылезал на крышу во время налетов. Позднее, узнав об этом, мама очень рассердилась.
Зима 1941-42 г. наступила рано и была очень холодной – морозы доходили до -30 и даже до -40 градусов. В домах с разбитыми от бомбежек окнами холод заставлял топить всем, что попадало под руку: мебель, книги, газеты. Мой будущий научный руководитель, П.П. Павинский, который жил тогда в Заячьем переулке, позднее рассказывал, что он сжег все оттиски своих научных статей и много научных журналов. В целях экономии топлива вместо стационарных печей многие использовали печки – буржуйки, т.е. небольшие железные печки, дымовые трубы от которых выводились в окно. В нашей квартире спасала от холода большая кафельная плита на кухне, где мы, в основном, и жили. Когда плита остывала, но была еще теплой, ее застилали байковым одеялом и можно было полежать на ней и согреться. Сидя на этой плите при свете коптилки я научился читать с помощью кубиков, на которых была и буква, и рисунок предмета, название которого начиналось на эту букву. Например: А – арбуз, Б – барабан, У –утюг и т.д. В четыре года я научился не только читать, но и писать печатными буквами, что очень пригодилось, когда пришло время писать письма отцу на фронт.
Как хирургу, отцу выделяли талоны на дрова. Талоны «отоваривали» в Таврическом саду. На дрова шли в первую очередь детские временные деревянные постройки - карусели, качели, на которых до войны я так любил кататься, гуляя с няней. Все деревянные части распиливали и выдавали строго по кубометрам. Обычно мама брала меня с собой за дровами. Для доставки дров использовали мою детскую коляску с большими колесами. Туда я ехал в пустой коляске, а обратно- сидя сверху на дровах. Несколько раз в таких поездках нас заставали авианалеты, и мы с мамой прятались в подъездах домов.
Помимо зажигательных бомб, немцы сбрасывали фугасные, которые разрушали дома целиком. Думаю, что такие бомбы использовали в первую очередь для стратегически важных объектов, но часто попадали и в жилые дома. Самолеты бомбили преимущественно в темное время суток. Особенно запомнилось то, что немцы перед бомбежкой спускали на парашютиках светильники, чтобы точнее попасть в цель. Эти светильники своим мертвенно-бледным свечением поначалу наводили ужас на детей и взрослых. который усиливался воем специальных сирен, установленных на пикирующих бомбардировщиках.
Но самым тяжелым испытанием для ленинградцев был, конечно, голод. Положение стало особенно тяжелым с тех пор, как окончательно замкнулось кольцо блокады. Связь с Большой землей осуществлялась только по воздуху, да и немногочисленный озерный флот на Ладожском озере не мог доставлять даже необходимый минимум продуктов и материалов. Ждали, когда лед скует воды озера, но окреп он только к концу ноября, и тогда, сначала на подводах, а потом и на машинах, стали перевозить необходимый груз. Продукты, в основном хлеб, выдавали строго по карточкам. Жителей разделили на четыре категории: иждивенцы, дети, служащие и рабочие. Больше всего выдавали по рабочим карточкам, иждивенцы получали меньше всех. Так, минимальная норма хлеба, которая выдавалась в декабре, для иждивенцев составляла 125 грамм, а для рабочих-400 грамм. Небольшая прибавка в последующие месяцы уже не могла спасти многих умиравших от голода людей. Потеря карточек, которые выдавались на месяц, была равносильна голодной смерти. Карточки на жиры и крупы вообще, как правило, не отоваривались. Да и за хлебом, приходилось выстаивать длинные очереди на морозе. Хлеб состоял в основном из дуранды (жмыха) с небольшой примесью муки. Бывали и случаи кражи карточек. Обычно молодой хулиган подходил к раздаче, выхватывал из рук стоявших в очереди женщин карточки и убегал. Догнать его у ослабленных голодом людей не было никакой возможности.
Хочется подчеркнуть, что ленинградцы, в подавляющем большинстве своем, вели себя мужественно и достойно. Но были отдельные примеры и недостойного поведения. Некоторые такие случаи можно объяснить синдромом голодного помешательства. С такого рода случаем пришлось столкнуться и нашей семье. До войны к нам частенько заходил учившийся в Ленинграде студент, сын кого-то из киевских знакомых. Мои родители всегда радушно его принимали, угощали, помогали, чем могли. Звали его по-домашнему Жюрик, но я, не умея еще правильно выговаривать буквы, произносил это имя как Жулик, за что бывал наказан. И вот, в один из блокадных дней он неожиданно зашел в наш дом. Он имел совершенно несчастный вид, был черный от грязи, завшивевший, жутко голодный. Мама и няня накормили его, чем могли, после чего растопили плиту, нагрели воду и стали его отмывать. Мне врезалась в память картина, как Жюрик стоит над тазом с горячей водой, а мама и няня трут его мочалками с мылом. Вечером уложили его спать. Ночью он тихонько вышел из кухни и надолго пропал. Мама забеспокоилась и пошла его искать. Обнаружила его в комнате стоящим у платяного шкафа и доедающим запасы сахара из мешочка, который мама хранила в шкафу, отложив его еще до блокады как неприкосновенный запас на черный день. Жюрик плакал, умолял его простить, но мама сказала ему: “Неужели ты не понимаешь, что ты не просто вор, ты – убийца. Тем. что ты сделал, ты фактически убил моего ребенка. Немедленно уходи из моего дома”. Действительно, без этих запасов мы все могли погибнуть от голода. Жюрик ушел, и больше мы его никогда не видели. Позже няня мне объяснила, что когда его кормили, мама пожалела несчастного юношу, сходила в комнату и принесла кусочек сахара из наших запасов. Он каким-то образом проследил за ней, догадался, где спрятан сахар, и нашел его. И добавила: “Не зря ты называл его жуликом”.
Другую историю рассказала мне няня. Еще до войны к нам часто заходила нянина племянница с сыночком Толиком, с которым я дружил и часто спрашивал, когда же к нам придет Толичка. Няня сказала, что мама Толика работала дворником в доме неподалеку. Жили они вдвоем в полуподвальном помещении. Когда началась блокада, она съедала весь хлеб, выдаваемый по ее и детской карточке. Чтобы не видеть и не слышать умирающего от голода ребенка, она запирала его в комнате и надолго уходила. Он залазил на стол, открывал форточку окна, которое было на уровне тротуара и умолял проходящих по тротуару женщин: “Тетенька, дайте, пожалуйста, хоть корочку хлеба”. Когда няня пришла к ним и принесла немного еды, чтобы подкормить ребенка, Толичка уже скончался. Няня рассказывала, что тельце его опухло от голода. Не понимая слова “опухло”, представлял себе, что оно покрылось пухом. Помню, я горько плакал по другу, испытав первое чувство большой потери в 4,5 года.
Слышал я и о противоположных случаях, когда мать, отдавая весь свой хлеб ребенку, умирала, оставляя его одного в пустой квартире. Но не все поступали так самоотверженно. Были и расчетливые дельцы, которые наживались на бедах людей и за кусок хлеба скупали у них ценные вещи. Врезался в память рассказанный мамой эпизод, когда у кого-то из ее знакомых купили рояль за полбуханки хлеба. Ходили слухи, что некоторые мерзавцы ловили и убивали детей, варили из них студень и продавали на рынке.
Не всех умерших могли похоронить. Прямо на улицах лежали окоченевшие трупы, которых некому было похоронить. Некоторых их них успевали убирать – их складывали штабелями в кузова грузовиков и вывозили в общие могилы на Пискаревку или в Московский район. Как то на улице Некрасова мы с няней увидели такую машину, кузов которой доверху был загружен телами. Машина шла на большой скорости и волосы развевались на ветру. Няня закрыла мне глаза, сказав: “Тебе не надо на это смотреть!” Но еще долго эта страшная картина стояла у меня перед глазами. (Аналогичное описание я нашел много позже в книге Д.С. Лихачева «Воспоминария», СПб. 1999, с. 500).
В начале 1942 г. немецкие войска заняли почти все пригороды и вплотную подошли к окраинам Ленинграда. Постепенно бомбежки сменились артобстрелами, поскольку при налетах немцы терпели большие потери. Крупнокалиберные дальнобойные пушки были установлены вблизи Петергофа в фортах на южном берегу Финского залива. Особенно известна гигантская пушка Большая Берта, которая стреляла снарядами весом примерно в одну тонну. Такой огромный снаряд я видел после войны в Музее Обороны Ленинграда. Постепенно ленинградцы по звуку летящих снарядов научились распознавать тот район, который в данное время подвергался артобстрелу, и, если это был не их район, без страха бродили по улицам.
Папа и мама получали еду в госпитале в счет своих карточек. Часть своей и папиной порции мама приносила в судочках домой, чтобы поддержать меня и няню. Иногда маме удавалось добираться домой на попутном санитарном транспорте, но обычно она шла поздно вечером пешком в полной темноте через пустынную территорию Александро-Невской лавры. Монастырь к тому времени был ликвидирован, все лаврские церкви закрыты, и только перед главным входом в Троицкий собор находилось организованное в советское время кладбище, на котором хоронили советских партийных и военных деятелей и некоторых известных медиков. Называлось оно «коммунистическая площадка». В частности, там был похоронен и известный хирург И. И. Греков, под руководством которого папа начинал работать в начале своего пребывания в Ленинграде. Но вечерами в военное время там стояла абсолютная темнота, и маме было жутковато пробираться на ощупь среди могил. Особенно пугал белевший на темном фоне памятник профессору Ивашенцову.
Часто, возвращаясь домой, мама попадала под атробстрел и пряталась в подъездах домов. Однажды, после отбоя, уже недалеко от дома, она увидела несущиеся с воем пожарные машины и бегущих в ту же сторону дружинников-спасателей, от которых она узнала, что снаряд попал в многоэтажный дом где-то на улице Радищева. Мама подумала, что мог быть разбит наш дом, где я был с няней, и внутри нее все похолодело. Она чуть не упала в обморок, но побежала что было сил и вскоре обнаружила, что это был не наш дом, а расположенный поблизости дом на углу Лиговки и Ковенского переулка. В другой раз на маминых глазах в военную машину попал снаряд, и все погибли.
Интересный психический феномен: в детстве само чувство голода не доходило до моего сознания. Зато любая еда, которую я получал, доставляла огромное удовольствие. Например, я мог посасывать кусочек дуранды с ощущением, которое испытывает гурман, вкушая самое изысканное блюдо. Когда мама выбрасывала на стол из судочка ледышку супа, состоящего из воды, редких листиков капусты и зерен перловки, я с наслаждением облизывал эту ледышку. Запомнилось, как я сижу на высоком детском кресле со столиком, кушаю принесенную из госпиталя манную кашу и думаю: “Почему это до войны я не любил есть манную кашу с молоком, маслом и сахаром, а сейчас с таким удовольствием кушаю эту жидкую несладкую кашку?” Изредка, когда за мамой заезжал санитарный транспорт, доставлявший ее в госпиталь, она брала меня с собой повидаться с папой. Навсегда запомнился специфический госпитальный запах, большое количество раненых в бинтах и на костылях. Встреча с папой доставляла нам обоим большую радость. Папа оставлял для меня все самое вкусное из своего пайка. Дело в том, что хирурги тогда очень ценились, т.к. от них зависело скорейшее возвращение в строй раненых военнослужащих. В блокированном Ленинграде это было особенно важно. Поэтому они получали дополнительный усиленный паек, в состав которого иногда входил даже шоколад. Папа делился с нами значительной частью своего пайка, что в конечном итоге помогло нам выжить в тяжелейших условиях блокады. В состав пайка хирурга входил также табак. И папа, хотя до войны он много курил трубку, отказался от табака и взамен получал небольшую порцию хлеба, который отдавал нам. Даже после войны папа с умилением и со слезами на глазах вспоминал, что когда он спросил меня как-то во время блокады: «что ты больше хочешь, хлеба или шоколадку?», я ответил: «Папочка, дай лучше хлебца».
Вспоминается несколько эпизодов, связанных с работой мамы в госпитале. Как-то в возглавляемом мамой отделе появилась молодая сотрудница, лет 16-17, которая стала в общих беседах говорить о том, что лучше бы поскорее сдаться врагу и не мучиться так, потому что мы всё равно скоро умрем. Это очень удивило и насторожило маму. Она пыталась переубедить девушку, говоря, что надо бороться до последней капли крови, но не сдавать Ленинград. Через некоторое время маму вызвали в особый отдел и стали допрашивать, почему подчиненные ей сотрудники ведут вредную пораженческую агитацию, а она не доложила об этом куда надо. Маме удалось объяснить, что девушка еще очень молода и неопытна, и все слышали, что мама провела с ней воспитательную беседу. и её удалось переубедить. Маму отпустили, но, видимо, сделали какие-то выводы.
Можно было предположить, что описанный выше эпизод был заранее продуманной провокацией. Действительно, одна дама из ближайших сотрудниц завидовала маме и стремилась занять мамино место, но ей это долго не удавалось. Наконец, путем разных интриг и наговоров ей удалось добиться своей цели. Весь коллектив очень любил маму и жалел, что придется подчиняться новой начальнице, которая пользовалась неважной репутацией. Но в первый же день работы на маминой должности именно в её бывший кабинет, где сидела новая начальница, попал снаряд, и она погибла. Мы считаем, что Господь спас мою маму от неминуемой гибели.
Зимой 1942 г. власти города, по-видимому, получили сообщение, что в ближайшее время немцы запланировали генеральный штурм Ленинграда. Госпиталя и все важнейшие службы города стали переводить на правый берег Невы. Предполагалось, что Нева станет главным рубежом обороны. Из домов на правом берегу Обводного канала выселили жителей, замуровали окна кирпичом, сделали бойницы и организовали таким образом передовую линию обороны города.
Эвакогоспиталь № 1170, получивший № 65, перевели на Петроградскую сторону в здания, расположенные недалеко от Тучкова моста, которые в настоящее время занимает Военно-Космическая академия имени Можайского. Теперь маме пришлось преодолевать гораздо большее расстояние от дома до работы и обратно. Зимой, чтобы сократить расстояние, от Троицкого (в то время Кировского) моста мама шла по чуть заметной тропинке напрямик по льду Невы мимо Петропавловской крепости и далее по Малой Неве до Тучкова моста. Такие путешествия были сопряжены с большим риском, т.к. участились артобстрелы. Часть снарядов падала в Неву, пробивая большие проруби во льду, которые на морозе быстро затягивались тонким льдом и, если еще шел снег, становились совершенно незаметными на общем белом фоне, особенно в темное время суток. Попасть в такую прорубь означало верную гибель.
Наступила весна 1942 года. На улицах лежали огромные толщи снега и льда, внутри которых скопились всяческие нечистоты. Весной, когда все это начало таять, появилась опасность возникновения эпидемий. Поэтому, все жители, которые могли еще двигаться, были обязаны выйти на уборку улиц и дворов. Вместе со всеми вышли и дети, но я заметил, что их стало значительно меньше, чем в начале блокады. Некоторые погибли, но большинство из них уже были эвакуированы. Управдом раздала всем инструмент, лопаты и ломы для скалывания льда. Отколотые ледяные глыбы забрасывали в кузова грузовиков и вывозили за город. Я с маленьким ломиком, которым очень гордился, тоже пытался скалывать лед и воображал себя бригадиром, покрикивая: “Работайте лучше, чтобы все было чисто”. Люди улыбались. делая вид, что меня слушаются. И действительно, казалось, что после этого работа шла веселее. Героическими усилиями всех петербуржцев эпидемий в городе удалось избежать.
В апреле снова начали ходить трамваи. Немцы подошли настолько близко, что некоторые военнослужащие доезжали до переднего края на трамвае. Звонки трамваев были слышны даже в немецких окопах. После этого многие немецкие солдаты поняли, что Россию им не победить. С наступлением теплых дней некоторые ленинградцы заводили огороды в садах и парках, во избежание цинги ели лебеду, заваривали корни одуванчиков. Я стал чаще приезжать к папе в госпиталь. Как- то раз, когда я пришел в папин кабинет, он дал мне послушать наушники, и я сразу узнал мамин голос. Оказалось, что мама тогда работала еще и диктором госпитального радио. У нас сохранилась фотография, где мама читает информацию о военных сводках перед микрофоном.
Летом 1942 года вышло распоряжение, по которому члены семей наиболее ценных сотрудников госпиталя переводились на казарменное положение. В середине июля мама, няня и я временно были выписаны из квартиры на ул. Радищева и переехали с самыми необходимыми вещами в служебное помещение при госпитале. Там я имел возможность много гулять во дворе госпиталя. Особенно запомнился очень понравившийся мне запах душистой ромашки, которой был усеян весь двор. Я растирал пальцами зеленые шарики цветков и с наслаждение вдыхал их аромат. Но особенно много радости доставлял мне настоящий самолет-истребитель, который стоял в середине двора. Раньше мне приходилось видеть самолеты только высоко в небе. А теперь я получил возможность подойти к самолету вплотную, все потрогать своими руками, забраться на крылья, проникнуть в кабину пилота, посидеть на его месте, подержать в руках штурвал, рассмотреть все приборы. Это было настоящее счастье. С тех пор, в пятилетнем возрасте, я решил, что когда выросту, обязательно стану летчиком.
Так мы прожили последние два блокадных месяца. Вскоре, однако, согласно новому распоряжению, все семьи сотрудников госпиталя должны были быть срочно эвакуированы на Большую землю. В квартире на Радищева мама, няня и я стали собирать в дорогу самые необходимее вещи, которые могли пригодиться в новых местах, и упаковывать их в тюки и чемоданы. К сожалению, ничего не удалось захватить из моих любимых игрушек. Взяли только резинового волка, которого я держал при себе во время всего путешествия. Этого волка мне подарила когда-то няня.
Собрав вещи, мы попрощались с соседями, жившими рядом, и в последних числах сентября 1942 г. со всеми пожитками мы были доставлены на Финляндский вокзал. Нас сопровождал папа, который выхлопотал в госпитале отпуск на несколько дней, чтобы помочь нам в дороге до берега Ладожского озера и посадить там на катер. На эти три дня он получил свою порцию продуктов сухим пайком, включая положенные ему пачки папирос. На вокзале нас посадили в пассажирские дачные вагоны поезда, который следовал до станции Борисова Грива. Наше место оказалось у окна, и всю дорогу я с интересом смотрел на проплывавшие за окном начинавшие уже желтеть деревья. (Следует заметить, что в детстве я очень любил ездить на всяком транспорте: трамваях, троллейбусах, автобусах, поездах и всегда смотрел в окно). От станции до берега Ладожского озера эвакуированных довозили на автобусах. Когда мы подошли к берегу, у причала уже собралось много народа и стоял собиравшийся отчаливать один единственный катер, уже полностью заполненный пассажирами, в основном женщинами с детьми, сидевшими на открытой палубе, на которой стояли ряды кресел, как в зале кинотеатра. Но папа подошел к капитану и о чем-то с ним поговорил. Разговор закончился тем, что капитан приказал посадить нас на катер; видимо, сыграли свою роль папиросы, полученные папой в госпитале. Для нас снова быстро спустили трап. Папа подхватил наши вещи, мы взбежали с ним на катер, и тут же катер отошел от причала и вышел в открытое озеро, направляясь в сторону противоположного берега.
Поскольку свободных мест не было, нас устроили на самой корме на каком-то большом ящике, откуда была видна вся палуба. Где-то на середине Ладожского озера, когда берег уже скрылся за горизонтом, двигатель внезапно заглох. Матросы засуетились, а я очень испугался, подумав, что катер тонет. Но, по словам взрослых, была другая опасность – потерявший возможность маневрировать катер мог стать легкой жертвой немецких самолетов, которые часто обстреливали катера с людьми во время переправы, и было много убитых и раненых. И действительно, вскоре в небе появилось несколько немецких самолетов, которых, однако, быстро отогнали наши истребители. Через некоторое время к нам подошел другой такой же катер, шедший встречным курсом, и матросы обоих судов совместными усилиями исправили поломку. В результате, хотя и с большим опозданием, мы благополучно прибыли в конечный пункт нашего плавания – поселок Кобону на южном берегу озера. Там нас ждал пункт питания, организованный для истощенных блокадников. Изголодавшиеся люди рассаживались за длинными дощатыми столами, на которые прямо из полевых кухонь подавался сытный горячий обед. Можно было получать добавку в неограниченно количестве. Многие не могли остановиться и переедали. В результате возникали сильные боли в отвыкших от большого количества еды желудках, которые в лучшем случае заканчивались изнуряющим поносом.
В Кобоне было сосредоточено большое количество грузовых машин. Машины были в основном двух типов: ГАЗ-АА (полуторки) и Зис-5 (трехтонки). В зимнее время они использовались на ледовой Дороге жизни. (Кроме них до войны по ленинградским улицам ходили еще пятитонные машины ЯАЗ. Но они были очень тихоходны и применялись в основном для уборки и поливки улиц).
Из Кобоны на полуторках и трехтонках эвакуированных доставляли на железнодорожную станцию Войбокало, откуда уже по железной дороге людей отправляли на восток. Поезд состоял из теплушек (приспособленных для перевозки людей товарных вагонов с нарами). В вагоны залазили прямо с насыпи по узеньким железным лестницам. В обратном направлении такие поезда везли мешки с мукой для блокадного Ленинграда.
Проводив нас до поезда, который к нашему приезду был уже переполнен, отец нашел санитарный вагон, в котором находилась амбулатория, и там договорился с коллегами, врачом и медсестрами, чтобы нас в порядке большого исключения взяли в этот вагон. Думаю, что на коллег повлияло то обстоятельство, что отец был в форме майора медицинской службы. Нам отвели маленький уголок за занавеской, и мы расположились там на наших мягких тюках. Папа с нами попрощался, мы расцеловались, и вскоре поезд тронулся на восток, а папа отправился назад в госпиталь. Следует отметить, что отец, сопровождая нас до поезда, очень рисковал, так как самовольный переезд военнослужащего на противоположный берег Ладоги, т.е. выезд из официально установленной зоны боевых действий, приравнивался к дезертирству. Если бы его задержал патруль, он был бы предан суду трибунала и, возможно, расстрелян. Но все, слава Богу, обошлось… Отправив семью на Большую землю, папа благополучно вернулся в госпиталь без всяких последствий.
Эвакуация. Нея.(октябрь 1942 – лето 1943г).
Поезд шел медленно, часто останавливался. Во время остановок люди сразу выскакивали из вагонов и тут же присаживались на железнодорожном полотне и даже под вагонами. Мне казалось удивительным, что так много людей сидят на корточках. Няня мне объясняла, что это те, кто сразу скушали свой сухой паек, и животик у них заболел. На станциях выходили за кипятком и получали небольшой дополнительный паек.
Еще будучи в Ленинграде, папа позаботился о нашем устройстве на новом месте. Как- то он узнал от своей хирургической сестры, что её родители живут на станции Нея, через которую приходят все поезда с эвакуируемыми ленинградцами. Поэтому нам будет лучше всего выйти на этой станции и остановиться у её родителей, которым она напишет, чтобы они приняли нас в своем доме как можно лучше. Еще до отправления поезда папа уточнил, что поезд действительно остановится на станции Нея, и с легким сердцем вернулся в Ленинград. Однако, из-за частых остановок поезд выбился из графика и на станции Нея не остановился. Поэтому нам пришлось выйти на ближайшей станции Николо-Полома, а состав с эвакуированными двинулся дальше на восток.
Уже стемнело, моросил дождь, вдали виднелись синие станционные огни у стрелок, слышались гудки паровозов и грохот буферов. Пассажирские поезда не ходили, расписания движения не было. Только на путях стояло множество товарных составов. Одни из них должны были направиться на восток, к Уралу, другие, с танками, пушками и военной техникой – на запад, где шли бои.
Оставив нас с няней, мама пошла узнать, какой из составов отправится в ближайшее время по направлению к станции Нея. Наконец, начальник станции сжалился над ней и посоветовал постараться сесть на поезд, который вскоре должен был отправиться в нужном нам направлении, но стоял далеко, на восьмом пути. Чтобы добраться туда, пришлось со всеми нашими вещами пролезать под вагонами. Было довольно страшно. Рельсы казались мне очень высокими, а чугунные колеса вагонов – огромными. Под вагонами постоянно шипели пневматические тормоза. Казалось, что состав вот-вот тронется и раздавит нас всей своей тяжестью. Тем не менее , мы благополучно добрались до нужного состава. Все вагоны этого состава были закрыты, но у последнего вагона была открытая тормозная площадка. С трудом мы залезли на нее по крутым ступенькам, погрузили вещи, и почти сразу же поезд тронулся.
Не успели мы перевести дух, как на нашу площадку на ходу поезда запрыгнул какой-то человек и, нецензурно ругаясь, кричал, что он проводник поезда и что мы заняли его рабочее место (я эти слова хорошо запомнил), требовал освободить площадку и грозился сбросить нас на ходу поезда. Поезд к тому времени набрал уже довольно большую скорость. Я безумно испугался, но маме удалось уговорить проводника, отдав ему почти все имевшиеся у нас деньги и много теплых вещей.
Итак, мы очутились на станции Нея. Поселок Нея (тогда Ярославской а ныне Костромской области) был расположен между полотном железной дороги и дремучим лесом и представлял собой типичную северную российскую деревушку с деревянными избами и покрытыми травой улицами. Через поселок протекала небольшая речушка того же названия. Жители работали, в основном, на железной дороге и на деревообрабатывающем предприятии. Кроме того, многие выращивали картошку, разводили коз и кур. Но все это я узнал позднее.
Когда мы вышли на станции, было темно, холодно и неуютно. После некоторых расспросов удалось найти нужный адрес. Однако, вопреки ожиданиям, приняли нас неприветливо, несмотря даже на то, что мама сразу показала хозяевам письмо их дочери, которое было у нее с собой. Места в избе для нас не нашлось, и нас разместили в курятнике. Мама постелила нам постель на соломе, и мы крепко заснули после всех перенесенных волнений.
Утром нас разбудило пение петуха и кудахтанье кур. Мама надолго ушла, чтобы зарегистрироваться в сельсовете и попытаться найти работу. Кроме того, приближались зимние холода, и необходимо было найти более подходящее место для проживания.
Через некоторое время, сменив несколько хозяев, нам удалось найти людей, которые предоставили нам место в доме, в уголке за печкой. Вскоре мама устроилась на работу бухгалтером в контору Лесхимхоза. И мы зажили довольно сносно, если сравнивать со временем пребывания в блокадном Ленинграде. Хлеба не всегда хватало, но это был не эрзац, как во время блокады, а настоящий ржаной или пшеничный хлеб, выпекавшийся в местной пекарне. Картошка была очень дорогая, и нам приходилось питаться, в основном, картофельными очистками, которые оставляли нам хозяева. Иногда я с мальчишками ходил на уже убранные картофельные поля и мы выкапывали там пару – другую случайно оставленных картофелин. Некоторые ели их прямо сырыми, но я приносил их домой. Няня часто ходила в лес и приносила оттуда немного грибов, клюквы и какую-то фиолетовую ягоду, которую она называла гоноболь. (Думаю, что это была голубика). Кроме того, няня , достала где-то серп и накосила травы для матрасов.
Самым изысканным блюдом у местных жителей была так называемая яблочница. Трудно сказать, почему оно так называлось. В этих суровых местах не было фруктовых садов, и местные жители яблок, по- видимому, никогда не пробовали. Для приготовления яблочницы очищенную картошку накладывали в чугунный горшок, обильно залив молоком, после чего вставляли горшок в русскую печь и содержимое запекали, пока сверху не образовывалась румяная светлокоричневая корочка.
Зима 1942 -43 гг. была снежной и морозной. Намело большие сугробы. На местном наречии они назывались суметы. Люди ходили среди сугробов по протоптанным ими узким дорожкам в снегу. Посреди улиц по укатанному снежному насту с коричневатыми пятнами от конского навоза катились широкие сани, запряженные лошадьми. Из окон местной пекарни вкусно пахло свежевыпеченным хлебом.
Вскоре я ассимилировался в среде местных мальчишек, активно участвовал в их играх, освоил местное наречие. Расчищенные от снега горки ребята заливали водой, которая тут же замерзала, образуя обледенелые спуски. По ним съезжали на чем попало, но чаще всего стоя на широких досках с приделанным к ним сидением и «рулем», чтобы держаться. Это сооружение называлось конек. У меня своего конька не было, но другие дети давали мне покататься. Вначале я часто падал, но потом привык и получал огромное удовольствие. Катались также на коньках-снегурках, привязанных к валенкам. Возвращался я домой весь в снегу, и няня на печке сушила мои валенки, перчатки и всю одежду.
Мыться мы ходили в баню, которая находилась в глубине леса. Каждой семье выделялось определенное время для мытья. Однажды мама взяла меня с собой в баню. Хорошенько натопив помещение и согрев воду, сначала искупала меня, тепло одела в предбаннике и, чтобы я не вспотел, попросила меня подождать снаружи, пока она закончит мыться. Вскоре мне надоело ждать, и я подумал, что мама решила просто проверить, найду ли я самостоятельно дорогу домой. Я вышел на дорогу и пошел, как мне показалось, в сторону поселка, но заблудился - все шел и шел, а домов все не было видно. Пройдя развилку дороги, я растерялся, не зная, куда идти дальше, и заплакал, дальше ничего не помню. В это время мама, выйдя из бани и нигде не обнаружив меня, забеспокоилась и быстро вернулась в поселок. Не найдя меня и там, ужасно испугалась (тем более, что в лесу тогда часто встречались волки) и вместе с няней и несколькими другими жителями поселка бросилась обратно в лес искать меня. К счастью, меня вовремя нашли – я уже засыпал в сугробе и чуть не замерз. Можно себе представить, как мама переволновалась. Меня принесли домой, отогрели, и я даже не заболел. Но сильно отморозил нос и кисти рук.
По вечерам я долго не мог заснуть, и мама ложилась рядом со мной и рассказывала о своем детстве в Киеве, о бабушке и дедушке, о своих братьях и сестрах, о преданной собаке Джемке, которая жила у них при доме. И я переносился мысленно из убогой заснеженной северной деревушки в прекрасный мир большой и дружной семьи, жившей в большом и красивом киевском доме, где был прекрасный сад, полный разнообразных цветов и фруктовых деревьев. Когда я жаловался, что местные мальчишки меня чем-то обидели, мама рассказывала, что в детстве ей тоже часто доставалось, но она никогда не плакала и не жаловалась. Даже тогда, когда один раз во время игры Глеб неумышленно, но так сильно попал ей мячом в солнечное сплетение, что она долго не могла перевести дух и чуть не потеряла сознание. Иногда по вечерам мама тихонько напевала мне колыбельную, которую я любил слушать еще до войны: “Спи, моя радость, усни, /в доме погасли огни, /Дверь ни одна не скрипит, /Мышка за печкою спит…”
Как- то раз зимой мы с мамой собирались вечером на прогулку, и она потянулась, чтобы достать мои перчатки, которые сушились высоко на печке. И вдруг, совершенно неожиданно она потеряла сознание и упала в обморок. Няня пыталась ей помочь и привести в чувство. Как сейчас помню, я страшно испугался и кричал в отчаянии: “Мамочка, не умирай, мамочка, не умирай!…” Видимо, обморок случился от постоянного переутомления, голода и волнений. Слава Богу, мама вскоре очнулась, но после этого всю жизнь я очень боялся ее потерять.
Вскоре няня устроилась на работу сторожем и уборщицей в контору Лесхимхоза, где мама работала бухгалтером. Няня работала круглые сутки, через два дня на третий. В первые дни Нового года маме пришлось составлять годовой отчет, и она часто работала за полночь. В такие дни я оставался в доме один среди чужих людей, которые занимались своими делами и совсем не обращали на меня внимания. Мне становилось так тоскливо и неуютно, что я постоянно сглатывал слюну и чувствовал себя очень несчастным. Поэтому я уговорил маму в такие вечера брать меня с собой в контору. Там я, находясь под опекой мамы и няни, спокойно засыпал под мерное тиканье стенных часов и стук костяшек, когда мама что-то считала на счетах. Возвращались мы домой в полной темноте, среди сугробов.
Предприятие Лесхимхоз занималось подготовкой древесины для военных нужд, а главное - сбором смолы – живицы, которая выделялась из трещин на коре живых сосен. Живица использовалась в химической промышленности для изготовления взрывчатых веществ.
Грузовики с готовой продукцией в кузовах и в прицепах выезжали из леса, оставляя глубокие колеи в снегу, и направлялись к станции для разгрузки. Машины были, в основном, газогенераторные, т.е. их двигатели работали не на бензине, которого не хватало, а на дровах. Топка представляла собой большой металлический цилиндр, располагавшийся вертикально справа сзади от кабины из-за чего кабина была довольно тесная. В топку засыпали дрова в виде небольших деревянных кубиков, которые тлели при плотно закрытой верхней крышке. Слева от кабины находился цилиндр меньшего диаметра, в который поступал угарный газ СО из топки, скапливался там, очищался и поступал в двигатель, который обладал несколько меньшей мощностью, чем у обычных автомобилей, зато древесного топлива в этой полутаежной зоне было предостаточно.
Научившись еще в Ленинграде читать и писать печатными буквами, по вечерам при свете керосиновой лампы я писал папе письма в Ленинград. Мама их посылала вместе со своими письмами, складывая листочки в виде треугольников, на лицевой стороне которых указывался номер полевой почты. Хотя Ленинград был отрезан от нас кольцом блокады, письма по Дороге жизни доходили удивительно быстро. Папа отвечал незамедлительно, часто присылал бандероли с вложенными в них детскими журналами «Мурзилка», которые я с огромным удовольствием прочитывал по нескольку раз, с интересом рассматривал цветные картинки. Каждый такой журнал доставлял большую радость.
Хотя питание было скудным и однообразным, никто из нас не жаловался, зная, что ленинградцам еще гораздо труднее. Но иногда детям очень хотелось чего-нибудь сладкого. Если удавалось достать кусочек сахара, то пили чай вприкуску, а иногда даже «вприглядку» - подвешивали над столом кусочек сахара и, глядя на него, пили чай. Казалось, что от этого чай становился сладким. Поэтому мы очень обрадовались, когда к Новому году в дополнение к пайку маме на работе выдали пол кило конфет, соевых батончиков. Решив отложить их до новогоднего праздника, мама сложила их в мешочек, крепко завязала его и спрятала в наш шкафчик. Со стыдом должен признаться, что когда остался дома один, я забрался в шкафчик, вытащил мешочек и, не сумев его развязать, прогрыз в нем дырку и, не в силах остановиться, съел больше половины содержимого.
В конце зимы я стал часто болеть – сказывался авитаминоз. С большим трудом меня удалось устроить в детский садик.В садике было много детей, эвакуированных из Ленинграда. Дети сочиняли разные стишки-считалки, казавшиеся на первый взгляд бессмысленными. Например, такие: «Двадцать второго июня, /Ровно в четыре часа/ Киев бомбили /Нам объявили,/Что началася война»; «На столе стоит бутылка,/ а в бутылке- виноград./ До свиданья, мама, папа, /Я уехал в Ленинград»; или: «Батор-батор губернатор,/ на войну пошел с лопатой,/ всех фашистов перебил,/ кочергу переломил»; «Воскресенье и суббота/ – тараканяя работа;/ таракан дрова рубил,/ себе хвостик отрубил». Дети в садике много рисовали войну: солдат с ружьями, танки, самолеты с красными звездами, которые всегда побеждали немецкие танки и самолеты с фашистским знаком (свастикой) на бортах. «Фашистский знак» расшифровывали как соединенные между собой четыре буквы Г: Гитлер, Геринг, Геббельс, Гесс.
Дети любили петь военные песни: «Три танкиста», «С далекой я заставы…», с особенным вдохновением пели куплет: «Играй мой баян, скажи всем врагам, что жарко им будет в бою, что как подругу мы Родину любим свою». Особенно любили петь песню «Катюша». Хвастались друг перед другом, кто знает больше куплетов. Играли в русских и немцев. Немцев никто не хотел играть, на эти роли выбирали по жребию. Только один мальчик, у которого погибла вся семья, часто играл Гитлера, которому мечтал отомстить, Он долго висел на турнике, приговаривая: «А я – Гитлер повешенный вишу». Вот такие детские воспоминания…
Питание в садике, как и у большинства детей в военное время, было очень скудным и однообразным, но все же обеспечивался некоторый «прожиточный минимум». Сладкого совсем не было. Только иногда по праздникам давали по кусочку хлеба, пропитанного подсолнечным маслом и посыпанного сахарным песком. Это было для нас самым большим лакомством.
Когда наступили теплые дни, нашу детсадовскую группу водили гулять на лесную поляну. Дети отдирали от сосновых стволов янтарные капли смолы и съедали их, воображая, что это конфеты, сливочные тянучки, которые мы ели до войны. Игрушек в садике почти не было. Приходилось придумывать самим всякие игры, больше всего играли в войну. Я очень тосковал по оставленным в Ленинграде игрушкам. Как-то я нашел кирпич, частично отколотый с одного конца, который в профиль напоминал автобус. Я его сохранил, и во время прогулок возил этот кирпич по песку, придумывая для своего «автобуса» маршруты.
Когда весна вступила в свои права и стала появляться зеленая травка, мы с няней любили гулять по крутым берегам реки Нея. Среди травы начал пробиваться первый щавель. Воздух над рекой был удивительный. Срывая кисловатые молодые листики, я с наслаждением их тут же отправлял в рот. Няня набирала щавель в корзинку, а потом мама варила из него зеленые щи. Счастью не было конца, так как все мы страдали авитаминозом.
В сельсовете нам выделили участок земли для посадки картошки,. Участок был покрыт травой и всякими сорными растениями. Мы взялись за лопаты и начали вскапывать этот участок, переворачивая комья земли дерном вниз. Купили несколько ведер частично проросшей картошки. Из клубней вырезали «глазки» и сажали их в землю, а остальную часть съедали. Я часто бегал смотреть. как на нашем участке из -под земли начинают появляться светлозеленые кустики.
Если няня была на дежурстве, из садика я возвращался к маме в контору. Там по радиотрансляции диктор Левитан с металлом в голосе четко зачитывал сводки Совинформбюро с фронтов. Утром передачи начинались не с пения Интернационала, как до войны, а гимном: «Вставай, страна огромная,/ Вставай на смертный бой/ C фашистской силой темною/ С проклятою ордой…» в исполнении хора Красной армии. Вспоминается стихотворное обращение поэта Константина Симонова к нашим воинам, писавшего о зверствах немцев на нашей земле: «Так убей же его (немца), убей/ Так убей же хоть одного/ Сколько раз ты увидишь его/ Столько раз ты его и убей!…». Все это поднимало боевой дух людей, вселяло веру в победу. А еще мы с мамой любили слушать пластинки с записью песен в исполнении Георгия Виноградова. Когда мы гуляли с ней по лесу, мама пела мне некоторые из этих песен, в также романсы и арии из опер. Особенно мой любимый романс, который она пела еще до войны: «Закатилось солнце,/Заиграли краски/ В легкой позолоте синевы небес». Голос у нее был удивительный. Такие голоса я слышал после войны только в оперном театре.
Так мы и жили, пока в самом начале сентября 1943 г. за нами приехал папа. К тому времени их госпиталь перевели из Ленинграда в город Липецк (тогда Воронежской области) поближе к месту предстоящего решающего сражения на Курской дуге. Госпиталь эвакуировали из Ленинграда зимой, незадолго до прорыва блокады, который состоялся 18 января 1943 г. Персонал госпиталя и раненых вывозили на грузовиках через Ладогу по ледовой Дороге жизни. Папа рассказывал, что на Ладоге мела метель, и полыньи, образовавшиеся от попадания снарядов, тут же заметало снегом, и они становились незаметными на белом фоне дороги. В результате два грузовика с людьми, шедшие перед тем, на котором ехал папа, ушли под лед. Шофер папиного грузовика успел затормозить и это спасло жизни отца и его раненых.
Уже в Липецке папа получил командировку в Москву для улаживания каких-то дел с заездом в Нею, чтобы забрать нас к себе, в Липецк. Привез нам подарки и угощения, в том числе фрукты, которых мы давно уже не пробовали. Первый вопрос, который я наивно задал папе,- привез ли он мои игрушки. Папа не расслышал и ответил: «Да, деточка, я привез тебе грушки». (Видимо, груши прислали на фронт из южных республик). Хотя груши были очень вкусными, я огорчился, т.к. все время мечтал о своих ленинградских игрушках. Папа сообщил, что нам предстоят многочисленные переезды с места на место, и няня сказала, что ей лучше будет остаться в Нее, пока мы не вернемся в Ленинград. Она хорошо адаптировалась среди местного деревенского населения, имела работу; к тому же ей оставалось неубранное поле картошки, которую мы вместе сажали и ждали первого урожая.
Через несколько дней мы втроем отправились пассажирским поездом в Липецк. Нам предстояло ехать с пересадкой в Москве. Первый раз в жизни я оказался в столице. В Нее я стал настоящим деревенским мальчишкой, поэтому Москва меня просто ошеломила. Во время войны мы постоянно слушали передачи из Москвы, знали, что там живет сам Сталин, знали песни о Москве; и вот, шестилетним ребенком, я впервые увидел этот город собственными глазами. Большое впечатление на меня произвело метро: движущиеся лестницы – эскалаторы, мгновенно появляющиеся и с шумом исчезающие в туннелях поезда. Но больше всего мне понравились двухэтажные троллейбусы. Таких в Ленинграде не было. Когда мы заходили в троллейбус, я просил родителей подняться на второй этаж, стремился сесть на переднее место, откуда взирал на проходящих внизу людей и проезжающие автомобили. Остановились мы у маминого дяди, Степана Николаевича Лампеко. Дядя Степа и его жена тетя Катя (как их называла мама) не имели детей. Жили они в коммунальной квартире в Брюсовом переулке (теперь ул. Неждановой) недалеко от Кремля, рядом с Центральным телеграфом и улицей Горького (до революции и в настоящее время -Тверская ул.). Дядя Степа был высокий старик с пышными седыми усами, внешне напоминавший писателя Гиляровского. Сходство дополняло то обстоятельство , что он, проработав много лет страховым агентом, прекрасно знал Москву и быт ее обитателей изнутри. Но это я понял позже, а в то время он ассоциировался у меня с дядей Степой из стихотворения Михалкова. Приняли они нас с московским гостеприимством, от души угостили. Мы пили чай и больше всего меня поразила стоящая на столе сахарница, из которой можно было насыпать сколько угодно сахара. В Нее, если сахар у кого-то и появлялся, то его делили по маленькому кусочку на каждого. Дядя Степа с женой занимали большую комнату в коммунальной квартире. Им во многом помогали соседи по квартире, Ольга (Лёля) и Владимир Стурейко. Мама переписывалась с Лёлей и после войны, а с ее дочерью, Линой (Ангелиной), родившейся уже после войны, наша семья и до сих пор переписывается.
К моему сожалению, в Москве мы пробыли всего несколько дней, так как, сделав все дела в Москве, папа должен был срочно возвращаться в госпиталь. В дороге я почти не отрываясь смотрел в окно. Передо мной проплывала местность, недавно опаленная войной: наши и немецкие подбитые и брошенные орудия, автомобили и танки, одиноко стоящие печные трубы, поваленные телеграфные столбы…
В Липецке располагался большой военный госпиталь № 282, где папа работал в должности ведущего хирурга госпиталя. Там мы прожили около года. В Липецке я постоянно выступал перед ранеными бойцами в составе концертной бригады, сформированной, в основном, из детей сотрудников госпиталя. Читал стихи, пел военные песни. В частности, читал поэму Некрасова «Несжатая полоса», которую выучил целиком. Многие ребята хорошо танцевали.
В начале 1944 г. отца назначили начальником полевого госпиталя на территории Белоруссии, где в то время шли напряженные бои. Вскоре мы с мамой переехали поближе к тем местам и оказались в городе Стародуб Брянской области. 8 июля 1944 года прямо у операционного стола отец был тяжело ранен попавшим в расположение госпиталя немецким снарядом, и пролежал без сознания на искусственном питании около полутора месяцев, после чего он получил инвалидность первой группы. В конце !944года мы вместе с ним приехали в недавно освобожденный от немцев Киев, де жили ближайшие родственники моих родителей. В Киеве мы встретили праздник Победы 9 мая 1945 года. Там я впервые пошел учиться в школу сразу во второй класс, т.к. мне было уже восемь лет. Вернулись мы в Ленинград в начале ноября 1945 года в нашу прежнюю квартиру на ул. Радищева , и в Ленинграде я продолжил учиться в школе. Школа называлась: 32 мужская средняя школа Октябрьской железной дороги и находилась на ул. Восстания, д. 4. После окончания школы в 1954 году я поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1960 году и получил специальность физика-теоретика.